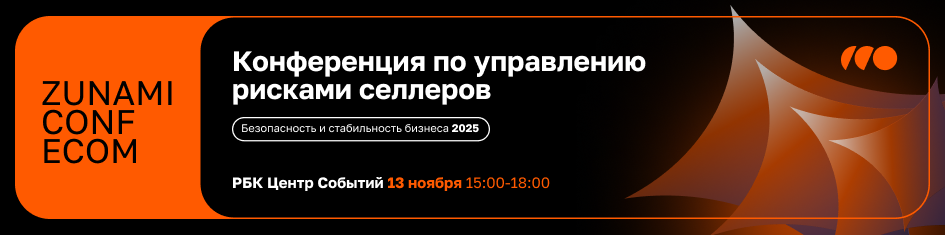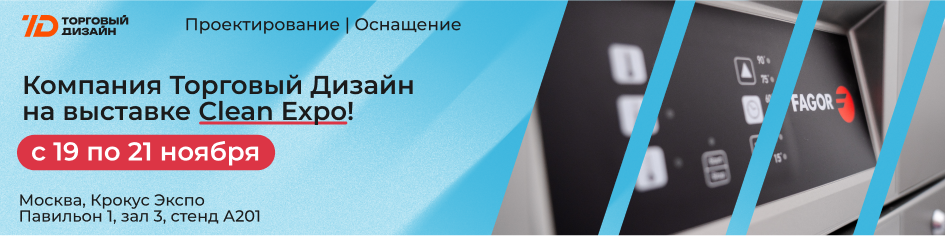Правительство Дмитрия Медведева проработало первые полгода. В интервью "Ъ" премьер-министр рассказывает о будущем "Роснефти" и идеологических спорах в Белом доме, об общественных настроениях и настроении Алексея Кудрина, об "акте Магнитского" и планах НАТО. Наконец, ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ сообщил о будущем плане работы Белого дома до 2018 года, который будет обнародован в ближайшее время.
"Правительство — это коллектив единомышленников, но не партия"
— Вы уже полгода работаете премьер-министром — вероятно, можно смело говорить о том, что организационный этап формирования правительства завершен. Ранее вы обозначили семь направлений, приоритетных для работы правительства. Что вам удалось решить на этом этапе, а какие вопросы остались нерешенными?
— Если бы я через полгода после прихода на пост премьер-министра сказал, что мы почти все решили, это было бы просто смешно. Мне кажется, для правительства важно, чтобы оно возникло как полноценная команда людей, имеющих общие замыслы. Эти полгода и я, как председатель правительства, и мои коллеги старались создавать общую платформу для работы. И мне кажется, в этом плане все получилось.
Это не значит, что теперь все люди в правительстве причесаны под одну гребенку и в правительстве нет разных позиций. Абсолютно нормально, что у членов правительства есть разные точки зрения на конкретный вопрос. Я здесь придерживаюсь простой позиции: до момента принятия решения надо обсуждать его максимально широко и открыто. После принятия решения дискуссии заканчиваются, и решение должно быть реализовано. Если кому-то принятое решение не нравится, критиковать его можно, но уже на другом месте работы.
Что касается целей работы правительства. Цель в том, чтобы экономика стала нормальной, современной и конкурентоспособной, людям жилось лучше, их достаток становился больше, а стандарты жизни улучшались. Такие задачи ставит перед собой любое правительство, даже правительство, которое работает в кризисный период.
— Вы до сих пор считаете ситуацию кризисной?
— Сейчас ситуация в экономике не кризисная, но она предгрозовая. Это обстоятельство, конечно, наложило отпечаток и на нашу работу в прошедшие полгода. Напомню, с чего началась моя работа в качестве председателя правительства. После того как президент подписал указы, я собрал всех членов правительства и сказал: перед нами стоят вполне практические задачи.
Первое — необходимо утвердить государственные программы. Я считал и считаю, что программный подход должен быть положен в основу формирования бюджета. Второе — утверждение бюджета на 2013 год и на бюджетную трехлетку. Третье — вопросы социального развития, решение задач по увеличению выплат отдельным категориям граждан в соответствии с ранее принятыми решениями. Четвертое — реформа государственной службы. Пятое — работа с экспертным сообществом на принципах "Открытого правительства". Шестое — приватизация. И седьмое — как можно скорее реализовать меры, предусмотренные дорожными картами Национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата.
Не мне судить, что из этого удалось, а что не удалось. Могу лишь сказать, что по всем этим направлениям мы продвинулись. Ближайшее заседание правительства я как раз посвящу анализу того, что было сделано за последние полгода.
— Дмитрий Анатольевич, в будущем году вы представите программу работ до марта 2018 года. Какие направления будут приоритетными?
— Мне бы не хотелось предвосхищать представление этой программы, работа над ней продолжается. Вряд ли вы ожидаете от меня, что я объявлю что-то такое, чего и представить себе сейчас невозможно. На мой взгляд, мы должны последовательно отстаивать ценности, которые, если хотите, выстраданы нашей страной.
Это не всегда просто: говоришь об общих моментах — вроде все понятно, но как только погружаешься в конкретный материал — все гораздо сложнее. Например, приватизация. Это ценность или прозаический механизм отчуждения государственной собственности? В какой-то момент я пришел к выводу, что приватизация в России — это не просто передача собственности от государства в частные руки. Это идеологема, которая задает вектор развития страны, которая формирует эффективного собственника, которая означает, что мы не строим экономику, контролируемую государством, государственный капитализм.
Да, деятельность правительства — это всегда набор определенных компромиссов. Тем важнее, чтобы в программе звучали ценностные ориентиры. И они будут представлены в программе.
— Система "Открытого правительства" была создана для того, чтобы улучшить отношения Белого дома с экспертным сообществом. Это получилось?
— Я считаю, что деятельность правительства точно стала более открытой именно в силу внедрения этих механизмов. Получилось ли все? Нет. Это процесс. Но то, что у нас значительная часть законопроектов проходит общественную экспертизу на площадке "Открытого правительства",— это факт. И мне было очень приятно слышать мнения при обсуждении, например, проекта закона о промышленной безопасности. Бизнесменов на этом обсуждении за язык никто не тянул — они люди вполне прагматичные. И они были искренне удивлены тем, что тяжеловесная машина под названием "правительство" смогла за три месяца создать документ, над которым до этого бизнес работал шесть лет. Просто потому, что наконец вступили в диалог.
— А внутри правительства политического давления на "Открытое правительство" вы не ощущаете?
— Политического давления?
— Очевидно, противники "Открытого правительства" есть и в Белом доме — кому-то оно должно мешать работать по привычным схемам?
— Правительство по своей природе всегда закрытая система. Наверное, не всем сотрудникам аппарата и министерств нравится работать на принципах открытого обсуждения.
Но я не вижу в критике "Открытого правительства" ничего особенного. Внутри правительства все решения должны приниматься в соответствии с законом о правительстве и внутренними регламентами. Мы уже поправили регламент правительства, чтобы внедрить туда принципы "Открытого правительства" как площадку для общественного обсуждения.
— Большинство вопросов, которые сейчас приходится решать правительству,— по существу и по последствиям вопросы идеологические, хотите вы этого или нет. Это касается и вопросов крупных социальных реформ, и вопросов экономической политики. Тем не менее Белый дом всегда настаивал на своей аполитичности. И хотелось бы понять, как вы собираетесь добиваться идеологического единства среди коллег.
— Я не собираюсь добиваться идеологического единства в правительстве. Правительство — это коллектив единомышленников, но не партия. Конечно, ценности должны быть близки. Скажем, у меня в правительстве нет людей, которые бы открыто поддерживали коммунистическую идею.
— А скажем, социал-демократ в правительстве Дмитрия Медведева мог бы работать министром финансов?
— У нас ведь не партийное правительство и не парламентская республика. Если бы мы были коалиционным правительством, тогда, конечно, министром финансов мог бы быть кто угодно. Но если вы спрашиваете меня как человека со сформировавшейся жизненной позицией — я для себя такой ситуации пока не вижу.
Что же касается того, как мы видим отдельные параметры развития экономики, эти взгляды могут быть разными. Если бы я, например, был вице-премьером по социальным вопросам (а я в какой-то момент, по сути, этим и занимался в рамках нацпроектов), у меня был бы свой взгляд на бюджет. Если бы я был министром финансов, наверное, я имел бы в виду точку зрения, похожую на взгляды Антона Силуанова или Алексея Кудрина. Как говорят французы, положение обязывает: мое рабочее место диктует мне приоритеты. С другой стороны, правительство — команда единомышленников, и диаметрально противоположные позиции по всему кругу вопросов — нет, конечно, такое невозможно.
Пока у меня нет сигналов о том, что идеологические расхождения в правительстве и у кого-то из его членов поднялись на такой уровень, что им уже сложно работать.
— И не видите перспективы того, что однажды это случится?
— Думаю, что нет. Хотя, знаете, мне казалось, например, что мои экономические воззрения не столь кардинально расходятся с воззрениями господина Кудрина. А оказалось, что расходятся: он об этом мне прямо сказал, и мне пришлось его уволить. Бывает и такое. Я, кстати, подозреваю, что он сам, когда сказал об этом, о последствиях не думал. Но это уже давняя история. Мы, кстати, с ним за этим столом недавно как раз сидели, он чаю зашел попить.
— Это был визит по его инициативе?
— Да. Пришел, говорит: "Ровно год назад, день в день, вы меня уволили". Посидели с ним, поговорили о делах. Он: "Ну, я буду правительство критиковать". Я отвечаю: "Правильно, Алексей Леонидович, критикуйте!" Он говорит: "Ну и работать буду над различными проектами" — "Очень хорошо!"
— И что в этой беседе критиковал Алексей Кудрин?
— Мы больше обсуждали вещи конструктивные, некоторые международные вопросы.
— Для вас было удивительным, что глава Минрегиона Олег Говорун уйдет из правительства так быстро?
— Да. Мне казалось, что он человек опытный и более подготовленный к тому, чтобы спокойно относиться к оценкам, которые прозвучали. Я понимаю, что иногда что-то кажется несправедливым или обидным, но человек, который находится на публичной должности, на должности министра, должен понимать, что он объект внимания и критики, в том числе со стороны президента или председателя правительства. И он должен к этому относиться спокойнее.
Я, может быть, проведу не очень очевидную, но, на мой взгляд, показательную аналогию. В советский период вряд ли можно было найти хоть одного министра или первого секретаря обкома, у которого не было бы партийного взыскания. Но никто из них партбилет на стол не клал, потому что понимал, что нужно работать дальше. Но это был выбор конкретного человека, нашего коллеги. И к нему нужно относиться с уважением.
"Я бы хотел, чтобы все помнили о преобразованиях в армии"
— Насколько основательна антикоррупционная законодательная база? Нуждается ли она в каких-то дополнениях?
— У нас просто не было законодательства, посвященного борьбе с коррупцией. Сейчас оно у нас есть, неидеальное, но есть, и по общему уровню оно не хуже, чем законодательство других стран. Это касается криминализации целой части деяний, которые раньше не рассматривались как преступления. Касается отчетности государственных служащих, правил служебного поведения и другого. Я был бы, наверное, плохим юристом, если бы я сказал, что эта законодательная база уникальна и рассчитана на столетия. Все это должно совершенствоваться. Но с определенным удовлетворением могу сказать, что за последние несколько лет мы эту базу радикальным образом укрепили.
— Последние заметные антикоррупционные дела стали следствием того, что законодательство заработало, или это проявление политической воли?
— Это всегда накопленный эффект, а также следствие запроса на борьбу с коррупцией. Некоторое время назад я это чувствовал, на всех уровнях было такое ощущение, что чего с этим бороться, все равно ничего не изменим. Это наше родимое пятно, этакое родовое проклятие. И ничего мы с ним не сделаем. Мне кажется, что мы смогли внести определенный юридический вклад в эту работу. Но запрос сохранился. Работа правоохранительных органов, которые получили дополнительные юридические возможности для этого,— это второй элемент. Ну и есть, конечно, определенный набор политических решений, который всегда необходим, чтобы реальные процессы пошли. Но скажу сразу: это должна быть системная работа, а не кампанейщина.
— Относительно ситуации в Минобороны вам раньше поступали сигналы?
— Наличие или отсутствие финансовых нарушений — это вопрос доказательств, которые сейчас собираются правоохранительными органами в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Они должны выполнять свою работу. А потом доказать это все в суде. Президенту и председателю правительства регулярно докладывают о том, что происходит в различных ведомствах. По всем таким обращениям, если там говорится о существенных моментах, даются поручения о проверках. Проверка в Министерстве обороны началась не сегодня, а гораздо раньше. Ее результаты могут быть квалифицированы как правонарушение или преступление только по приговору суда. И никак иначе.
— Военная реформа Анатолия Сердюкова дошла до точки невозврата или же будет откат назад?
— Решение о проведении военной реформы принимается верховным главнокомандующим. Им был Владимир Путин, потом был я, сейчас снова В. В. Путин. Но, безусловно, очень многое зависит от министра обороны. Можно ничего не делать, а можно проводить преобразования. Анатолий Сердюков их проводил. С ошибками, наверное, но в том, что эти реформы реально начались, у меня никаких сомнений нет. Они касались как самих вооруженных сил, так и социального самочувствия военнослужащих. Конечно, легко сейчас говорить о недостатках, но ровно за последние несколько лет социальный статус военнослужащего самым кардинальным образом изменился. Стала принципиально другой зарплата, денежное довольствие, прекратился отток людей из вооруженных сил. Те, кто отслужил, получили и получают квартиры. Такого не было никогда. А если говорить о зарплате, знаете, хотя человек не может быть полностью доволен своей зарплатой, но она сейчас абсолютно сопоставима с соответствующим денежным содержанием военнослужащих в Европе. И уже не столь существенно отличается от такого же денежного содержания в США. Это результат тех преобразований, которые проводились в Министерстве обороны. И я хотел бы, чтобы об этом помнили.
Надеюсь, что новый министр обороны этот курс продолжит. Об этом и президент, и я говорили с Сергеем Кужугетовичем (Шойгу.— "Ъ"). Он сказал, что считает, что очень много было сделано. Надо разобраться, конечно, сейчас, что правильно, что не очень правильно, но сами преобразования должны приобрести необратимый характер.
— Так почему Сердюков отправлен в отставку? Суд решений не принял, претензий к нему официально предъявлено не было?
— Можно говорить о достижениях реформ — они несомненны. Но есть правила поведения в такой ситуации, которые существуют в любой стране. Если возникли сомнения в отношении того или иного должностного лица, возбуждено дело — а это публичный вопрос,— руководитель должен принять решение или об отстранении, или об увольнении лица, возглавляющего ведомство. Хотя бы для того, чтобы не было сомнений в объективности проводимого расследования. Так поступают во всех странах.
— Вас не беспокоит общественная атмосфера, которая сложилась вокруг этих дел? Когда оппозиция говорит о новом 1937 годе, то понятно, что случись сейчас такое, на тот 1937 год это не будет похоже по форме. Но похоже ли, с вашей точки зрения, настроение в обществе, вызванное в том числе антикоррупционной кампанией?
— Вы имеете в виду политическую оппозицию или вы имеете в виду борьбу с коррупцией, потому что это все-таки разные вещи?
— Нет, речь идет о внесистемной оппозиции.
— Я не люблю этот термин. Я специально старался говорить о другом: что есть легальная оппозиция и оппозиция нелегальная. Легальной оппозицией являются все те, кто состоит в легальных политических движениях или политических партиях. Более корректным мне кажется термин "непарламентская оппозиция". Ну так вот, я не знаю, что они имеют в виду. Чтобы судить о том, что было в 37-м году, нужно понимать настроения 37-го года. Достаточно обратиться к источникам, чтобы понять, что наше общество сегодня настолько отлично от общества 30-х годов в Советском Союзе, что ничего подобного даже представить себе невозможно.
— К концу весенней сессии Госдума приняла целый ряд резонансных законов, в том числе ужесточающих правила проведения акций протеста и вернувших в Уголовный кодекс статью о клевете. Оппозиция считает, что в стране снова закручиваются гайки. Вы к этим мерам как относитесь?
— Общество развивается, становится более современным, более открытым. Обществом более благополучного государства, скажем так. И отсюда столько запросов к власти. Когда страна неблагополучная, люди гораздо меньше предъявляют требований к власти, чем сейчас. Их задача — просто выжить. А то, что такой общественный запрос вырос во время выборов в 2011 году,— это свидетельство взросления нашего гражданского общества. Мне кажется, что эти репрессивные ожидания — это определенный политический прием. Часть политической программы. Не более того.
Но ведь есть и другие настроения. Мне не так давно пришлось на эту тему рассуждать. Часть общества — и мы не должны об этом забывать — говорит, что простого порядка мало, нужны репрессии. И что все, что делалось в 30-е годы, было хорошо. И нам нужно проводить именно такой курс. И сейчас так рассуждают не только пенсионеры, но и определенное число молодых людей. Я на это был вынужден недавно отреагировать, когда в очередной раз начали обсуждать роль Сталина в нашей истории. Повторю свою позицию: большинство людей, которые восхваляют эти времена, абсолютно не представляют себе, что было на самом деле. Очень легко восхищаться тираном, понимая, что за тобой не придут ночью, не расстреляют без суда и следствия, не посадят на 25 лет по ложному доносу.
Вы упомянули об изменении законодательства. Знаете, всегда есть какие-то общественные тренды, которые или усиливаются, или ослабляются. Вот вы упомянули о клевете. У меня была своя позиция по этому вопросу. Она заключалась в том, что эта статья должна быть декриминализована. Не надо сажать за клевету. И я это сделал. Потом возникла другая правовая конструкция: клевета — это общественно опасное действие, но за клевету нельзя сажать в тюрьму. Ответственность за нее должна быть иной, в основном имущественной. Эта позиция мне кажется приемлемой. Говорю вам предельно откровенно: если клевета объявляется общественно опасным деянием, но не влечет тюремного заключения, то мне кажется, что такая модель ответственности вполне возможна. Если бы речь шла о более жесткой, репрессивной модели, я бы сказал, что этого делать нельзя.
— Последние поправки к закону о госизмене и его возможное правоприменение вызывают опасения, что под удар попадут и научные, и деловые контакты. Насколько это вероятно и есть ли возможность для быстрой корректировки этого законодательства?
— Чтобы понять, репрессивная это вещь, или корректировка отдельных юридико-технических моментов, или, еще точнее, корректировка отдельных элементов диспозиции статьи о государственной измене, нужно, чтобы возникла юридическая практика. Давайте ее дождемся. Если это будет практика жестко репрессивного свойства, расширяющая пределы ответственности и ее субъектов, тогда вы правы. Думаю, что этого не будет.
"Москва должна была расшириться"
— Продолжится ли географическая децентрализация управления в России? Так, оправданна ли с экономической точки зрения инициатива о переводе Верховного и Высшего арбитражного судов в Санкт-Петербург?
— С точки зрения идеологии это абсолютно оправданная тема. С учетом размеров нашей страны и определенного набора правовых привычек лучше, если суды находятся где-то отдельно. Меньше соблазнов на них влиять. К тому же деятельность судов все-таки не требует прямого контакта с другими ветвями власти и не носит оперативного характера. Она, если хотите, самодостаточна. Вот Конституционный суд как принимал решения в Москве, так и принимает их в Санкт-Петербурге. Вынесение судебной власти в другой субъект федерации неплохо и с точки зрения децентрализации властей. А вот экономическая сторона требует отдельного просчета. Это действительно недешевое дело. Но если мы сможем эффективно продать те здания, которые в настоящий момент занимают высшие суды в Москве, я думаю, что это будет разумно.
— Не противоречит ли это проекту создания нового административного комплекса на территории Большой Москвы?
— Нет. У нас никогда не было утвержденного плана, кто куда переезжает. Была лишь моя идея, основанная на том, что органы управления разбросаны по территории Москвы. Это неудобно. И для жителей Москвы, и для чиновников, которые вынуждены мотаться между зданиями и тратить на это время. Во многих странах органы власти сконцентрированы в одном месте. Но, конечно, нужно посчитать, сколько это будет стоить. Вопреки распространенному почему-то сейчас мнению проект не закрыт. Все поручения даны и отрабатываются. Если говорить о правительстве, о парламенте, о президентских офисах, то их потенциально вполне можно перевезти в Новую Москву. Но это технологически весьма сложная задача.
— То есть проект расширения Москвы продолжается?
— Я уже объяснял, почему принял это решение. Не из-за чиновников. Город задыхается. 12 миллионов, а если говорить откровенно, то и все 15 миллионов с приезжими, не могут жить в границах 60-х годов. Так не бывает. Поэтому Москва должна была расшириться. И это не прихоть, а продуманное решение. Я уверен, что в ближайшие годы мы будем свидетелями достаточно бурного развития новых территорий. Ну и для этих территорий это неплохо, потому что, как ни крути, но стандарт жизни в Москве выше, чем в Московской области.
— А к идее объединения Москвы и области власть не вернется никогда?
— Этот вопрос нужно задавать не только мне. Прежде всего — самим людям. Но если вы спрашиваете мое мнение, то прямо скажу: это too much для нашего государства. 20 миллионов человек (Москва и область) — это седьмая часть страны. Я думаю, что это сложно для управления. Хотя подобные идеи, наверное, будут. На мой взгляд, если говорить об объединении, то, например, объединение Петербурга и области гораздо более реалистичная задача. Именно в силу того, что там меньше людей (не более семи миллионов). Подобные субъекты уже существуют. Та же Московская область. Ими можно управлять. Хотя в юридическом, административном и даже в гуманитарном плане это очень непросто. Размер имеет значение.
"Действующая пенсионная система, конечно, небезобразна, но нуждается в совершенствовании"
— В минувшую пятницу Госдума проголосовала за пакет законопроектов по самому крупному и острому спору в Белом доме в 2012 году — вокруг пенсионной реформы и пенсионных накоплений. В чем вы видите источник разногласий — это спор идеологический, мировоззренческий, финансовый, бюджетный, лоббистский?
— Спор и идеологический, и мировоззренческий, и финансовый. Я не припомню ни одной пенсионной реформы, которая проводилась бы всецело по заранее определенному плану. Пенсионная система в любой стране — очень сложный, громоздкий и весьма консервативный механизм, работа которого затрагивает интересы абсолютного большинства населения.
В Госдуме рассматривается пакет законов, направленных на модернизацию пенсионной системы. Он затрагивает и вопросы досрочного выхода на пенсию по соответствующим спискам профессий, и вопросы пенсионного обеспечения самозанятых. Там есть и ряд других, на первый взгляд частных вопросов. На самом деле они затрагивают интересы миллионов людей. Некоторые из них после обсуждения было решено рассрочить. Думаю, это абсолютно правильно. У нас действительно были разные на эту тему разговоры: часть моих коллег придерживалась идеи сделать все как можно быстрее, другая часть считала, что желательно вообще не трогать, например, накопительный элемент.
Как это часто бывает, компромиссный вариант — а принят именно такой — балансирует ситуацию. Измененный порядок распределения пенсионных денег вступит в действие не с 2013 года, а годом позже. Это даст возможность подготовиться, создать реально работающую, хорошо продуманную, сбалансированную, обоснованную математическими расчетами пенсионную формулу. Принятое решение, по сути, дает возможность людям самим решать, как лучше проектировать свои пенсионные накопления: нужно ли им оставаться в действующей системе или присоединиться к новой.
Действующая пенсионная система, конечно, небезобразна, но, как и всякая пенсионная система, нуждается в совершенствовании. То, что она существует всего десять лет, для меня не аргумент. Десять лет — большой срок, а если сейчас не принять решений, мы упремся в довольно неприятную ситуацию. В чем она? Когда начнут выходить на пенсию люди, формировавшие ее в рамках нынешней накопительной системы, возможна ситуация, когда они будут получать пенсию меньше, чем те, кто вышел на пенсию в рамках распределительной системы. Но ведь не в том была цель введения накопительной системы! Она должна добавлять деньги, а не уменьшать их. Мы должны защитить людей.
В то же время, конечно, мы должны смотреть и за тем, чтобы в целом сохранить определенный баланс внутри разных групп пенсионеров. Кто-то захочет остаться в нынешней системе. Поэтому весь набор пенсионных прав, вытекающий из действующего пенсионного законодательства, для тех, кто хочет остаться в рамках сегодняшних правил, сохранится.
— В "Ъ" мы всегда стараемся стоять на стороне бизнеса, а бизнес в этом вопросе всегда интересуют в первую очередь налоги. Можете ли вы гарантировать, что принятые решения по пенсионной реформе снимают вопрос о повышении ранее сниженной совокупной ставки страховых платежей обратно до 34%?
— Вы хотите, чтобы я поклялся на чем-нибудь? Не буду этого делать: я же ответственный человек. Могу лишь сказать, что таких планов пока нет. В ближайшие годы — нет. Мы не планируем повышать совокупный страховой платеж с 30% до 34%. Но существует масса факторов, которые мы не контролируем, включая и ситуацию в мировой экономике. Поживем — увидим.
Вопрос о пенсионной системе, кстати, включает в себя и вопрос пенсионных прав людей, которые занимаются бизнесом. Я имею в виду не сверхбогатых — им это не столь важно (хотя в жизни все меняется!),— а средний и малый бизнес. Очень важно, чтобы наряду с государственной пенсионной системой, распределительной или накопительной, развивались корпоративные пенсионные системы. Мы уж точно не должны их загубить. Сейчас около семи миллионов человек являются клиентами корпоративных пенсионных систем — уже не так мало, согласитесь? Если мы выйдем, скажем, к 2022 году на 25 миллионов клиентов корпоративных пенсионных систем, то будем считать, что задача обеспечения пенсионных прав нашего среднего класса решена. Уже сейчас за счет корпоративных пенсионных систем можно покрыть 15% заработка клиентов. Наконец, некорпоративные, полностью частные пенсионные системы могут дать еще 5-7% заработка. Это весомая добавка к пенсии из системы, сформированной под крылом государства.
— Еще одна де-факто идеологическая проблема досталась вам как премьер-министру вместе с креслом — полемика между Минэкономразвития и Минфином. Минэкономразвития последние десять лет говорит примерно одно и то же: экономический рост — это государственные инвестиции. Минфин примерно столько же заявляет: экономический рост обеспечивается сбалансированной макроэкономической политикой. Это вечный спор?
— Отчасти да. И не потому, что у нас всегда место министра экономического развития занимает человек типа Германа Грефа, а место министра финансов — типа Алексея Кудрина. Кстати, мне в бытность президентом приносили предложение объединить оба министерства. Я на это не пошел. И мы это ранее обсуждали и с Владимиром Владимировичем Путиным в его предыдущий президентский срок, и он на это тоже не пошел. Противоречие между политикой роста и политикой бухгалтерского баланса — нормальное конструктивное противоречие. Оно будет в государстве, где существует два ключевых экономических ведомства. Где бы я ни был — на экономических форумах или в кругу коллег, президентов или премьеров,— всегда идет дискуссия, что первично: фискальная консолидация или цели развития. Все дебаты на площадке МВФ — об этом же. Мы потратили долгие часы на "двадцатке", выясняя, что все-таки важнее. И естественно, не пришли ни к какому выводу: ни одна страна не может поставить в качестве главной идеи что-то одно.
Конечно, в условиях падающей экономики, расшатанных финансов фискальная консолидация крайне важна. Но с другой стороны, она нужна не ради самой консолидации. Она нужна для макроэкономической стабильности и для последующего развития. И как только мы жестко зажимаем развитие рамками бюджетных ограничений, заканчивается рост. А раз заканчивается рост, нет возможности держать в нормальном состоянии экономику, нет возможности соблюдать макроэкономические пропорции. Замкнутый круг. Развитие и фискальная консолидация — это две стороны одной медали.
А вот как они сочетаются — это ответственность конкретного правительства в конкретный момент. В 2009 году задача бюджетной консолидации в нашей стране, как и в большинстве экономик, была важнее. Нам нужно было не провалиться. Потом мы ситуацию исправили, и задача поддержки роста вышла на передний план. Мы, конечно, ни в коем случае не должны расшатывать бюджет, поэтому и ввели весьма жесткое "бюджетное правило". Нынешний бюджет я не рассматриваю просто как бюджет ограничений. В нем есть инвестиционный потенциал и модель роста, хотя и не такого быстрого, как мы бы хотели.
— Еще один схожий выбор для правительства, вытекающий из первого,— вопрос об инфляции. Является ли нормальным инфляционным фоном для России уровень в 5% роста индекса потребцен или ниже? В этом смысле правительство также настаивает на золотой середине — 5%?
— Это, по сути, один из философских вопросов нашей экономической практики, извечный спор между Минфином и Минэкономразвития. Я считаю, что таргетирование инфляции является важным инструментом, который позволил нам задавить инфляцию. Пока не до того уровня, как нам бы хотелось.
— Из ваших слов следует, что реальный ориентир инфляции для правительства — 3-4% в год и ниже?
— Конечно, такая задача в принципе стоит.
— То есть действующий "компромисс" с 5% — не компромисс, а стечение обстоятельств?
— Но мы же действительно хотим, чтобы наша макроэкономика была такой же, как, например, в Германии, США или даже в Китае. В Китае своя специфика, прыжки инфляции там были, и их подавили, но если говорить об экономиках развитых государств, то там инфляция 2-4%. Этого уровня не нужно достигать во что бы то ни стало: мы живем в сложном мире в конкретной ситуации. Но мы должны стараться придерживаться тех параметров, которые сами себе задали.
"Идея мегарегулятора на базе ЦБ не пугает"
— Еще один вопрос, который правительству придется решать в ближайший год,— вопрос "мегарегулятора" и консолидации финансового надзора. Вы ожидаете какого-либо решения на этот счет?
— Безусловно, решение будет, а иначе зачем мы все это затеяли, чтобы подразнить кого-то, что ли? Оно готовится. Могу сказать, что я думаю по этому поводу сейчас, хотя это не окончательное решение.
У нас есть ряд институтов, которые влияют на ситуацию на финансовом рынке, но все-таки Центральный банк в этом смысле самый сильный институт. И ЦБ — это автономная система. Сама по себе идея сконцентрировать эти полномочия в ЦБ не лишена смысла. Нет идеальных органов управления, и люди, наверное, небезгрешны, но, если говорить, например, об уровне коррупции, ЦБ гораздо более прозрачная и открытая система, чем многие другие государственные структуры.
— Еще пять лет назад у банковского сообщества были претензии к надзору ЦБ, правительство беспокоила ситуация с "горящими" банками. С вашей точки зрения, все проблемы банковского надзора в ЦБ уже в прошлом?
— Значит, Сергей Игнатьев и все правительство работали успешно, и эти пять лет не прошли даром. И кстати сказать, именно поэтому идея мегарегулятора на базе ЦБ не пугает финансовый мир. Но окончательного решения нет. Поэтому я поручил проанализировать все варианты — начиная от укрепления нынешней структуры, которая занимается регулированием на финансовых рынках, и заканчивая полной передачей соответствующих полномочий Центральному банку.
— Правительство недавно подняло лимит покрытия депозитов, застрахованных в АСВ, с 700 тысяч рублей до миллиона. Обычно такие вещи правительства делают во время кризиса — какова логика действий Белого дома в этом вопросе?
— Действительно, в некоторых случаях такие шаги предпринимаются для того, чтобы успокоить людей. У нас не тот случай, у нас все нормально. Но надо признать, когда мы принимали прежнее решение по лимиту страхования вкладов на уровне в 700 тысяч рублей — это были другие 700 тысяч. Де-факто реальный объем покрытия АСВ депозитов уменьшился, поэтому, даже исходя из соображений справедливости, рост лимита до миллиона является нормальным решением. К тому же за последние годы, имея в виду критерий соотношения между валовым внутренним продуктом на душу населения и объемом страхового покрытия депозитов, у нас показатели оказались ниже, чем у многих государств СНГ, включая, например, Казахстан и Украину.
— При этом обсуждался и вопрос о том, что гарантии АСВ по депозитам могут быть частичными. К этому вопросу правительство вернется?
— Наверное, когда-нибудь это будет возможно. Но наши люди должны для этого подготовиться.
— Правительство будет и далее поддерживать ЦБ в вопросах укрупнения банковского сектора?
— Укрупнение не должно производиться ради укрупнения, а ради создания более сильных банков. Планового задания по количеству банков никто перед ЦБ не ставит. Это компетенция самого ЦБ.
Экономическими методами, банковскими нормативами мы к этим решениям, естественно, банки подталкиваем. У нас около 1000 банков — нужно ли нам такое количество? Мнения, как обычно, разные. Приблизительно 93% всех средств находятся на счетах 200 банков. Значит, только их нужно оставить? С другой стороны, если я правильно помню, в США (конечно, у них экономика существенно больше и население в два раза больше) несколько тысяч банков. И они почему-то не стараются их во что бы то ни стало загнать в крупные банковские структуры. В некоторых ситуациях средние банки более устойчивы, чем крупные. Тем не менее эволюция банковского сообщества идет. Приняты решения о стартовом капитале для банка в сумме не менее 300 миллионов.
"В будущем, наверное, нам нужно будет гораздо большее количество крупных частных банков"
— Еще в одной дилемме, едва ли не главной, приватизации против развития госсектора в экономике, вы последовательно на стороне приватизации. При этом госкапитализм известен в мире не только в виде господства госкомпаний. Например, в Германии он существует как перекрестная собственность в промышленной и финансовой сфере, и в правительстве есть как минимум сторонники именно такой "континентальной" модели. Утвержденный вами запрет на участие госкомпаний в приватизации — это принципиальная позиция? Германская модель, несмотря на явную тягу к ней госменеджеров, шансов в России не имеет?
— Нам никогда не создать германскую модель, потому что мы не немцы. Я считаю, что мы должны предпринять все зависящее от нас, чтобы сделать ситуацию максимально прозрачной и уйти от участия госкомпаний в приватизации.
Это не означает, что этого никогда, ни при каких условиях не будет. После определенной полемики я подписал постановление правительства о том, что участие компании, контролируемой государством, и ее "дочек" в приватизации разрешается только с прямого согласия правительства. Сами, без государственной директивы подавать заявки на участие в приватизационных сделках они не могут. Это мера, блокирующая желание крупных и не очень крупных государственных компаний подменить приватизацию перекладыванием собственности из одного кармана в другой.
— Готовы ли вы по той же модели ограничивать и растущее влияние госбанков на экономику — их доля в кредитных портфелях в России уже дает им возможность наращивать влияние на экономику без приобретения собственности?
— Нет. Если бы у нас была абсолютно спокойной финансовая ситуация, можно было бы подумать о том, чтобы отрегулировать и присутствие государственных банков на рынке. Но с финансами тяжкая ситуация во всем мире, ликвидности не хватает не только на нашем рынке, но и на европейском. Государству пришлось напрямую вмешаться в финансовую жизнь во всех экономиках мира, включая США, поэтому Барака Обаму и стали называть социалистом. На самом деле это было просто необходимо сделать. Иначе бы экономики и отдельные компании не выстояли. И сейчас ситуация на финансовых рынках сложна, а потому отказ от использования государственных финансовых институтов и государственных денег был бы в настоящий момент неправильным.
При этом я признаю, что в будущем, наверное, нам нужно будет гораздо большее количество крупных частных банков, которые способны составить конкуренцию нашим крупнейшим банкам с госучастием — Сбербанку, ВТБ и даже ВЭБу как институту развития.
— Как вы относитесь к планам "Роснефтегаза" по консолидации ряда активов как минимум в энергетике, ведь они, по существу, альтернативны приватизации?
— "Роснефтегаз", по сути, владельческая компания, которой принадлежит ряд активов, в том числе и акции "Роснефти". Это ну уж точно не конфликт вокруг судьбы той или иной компании — "Роснефтегаз" полностью принадлежит государству и государством контролируется по двум каналам контроля. Президентом, который установил особый порядок принятия решений по целому ряду сделок, и правительством, которое принимает ключевые директивы в области экономики. Кстати, этот особый порядок согласования был установлен мною, когда я работал президентом. Особый порядок принятия решений касается судьбы стратегических компаний, согласования ключевых решений советами директоров, отчуждения активов. Такие действия согласовываются, как и в случае "Роснефтегаза", и с правительством, и с администрацией президента.
Государство проводит свою политику через "Роснефтегаз". А дивиденды, которые получает "Роснефтегаз", могут быть использованы для различных целей — в том числе и для докапитализации ряда государственных компаний, и для решения задач развития. Не так давно подписан указ президента, касающийся "РусГидро", там соответствующие средства "Роснефтегаза" будут использованы. Кстати, так могут быть использованы дивиденды и других компаний для решения других задач. Здесь все в руках государства.
— Вы уверены в том, что сделка по выкупу ТНК-ВР "Роснефтью" будет завершена ровно в том виде, в котором она описывается сейчас? Ведь мы видели большие сделки в 2003-2005 годах — это и ЮКСИ, и слияние "Газпрома" и "Роснефти"…
— Я помню эти сделки. В принципе параметры сделки по ТНК-ВР могут, конечно, корректироваться с учетом рыночной ситуации. Но в целом основные условия сделки должны быть сохранены, если не рассматривать форс-мажорные сценарии. Это же вопрос договоренности между продавцом и покупателем.
История сделки восходит к истории взаимоотношений между двумя акционерами ТНК-ВР — российской стороной (AAR) и ВР. Мне кажется, что компания создана на базе изначально противоречивой конструкции: я никому бы не рекомендовал создавать компании, тем более такие крупные, по принципу "50 на 50". Так было модно в период расцвета кооперативного движения в конце 80-х, а сегодня два крупнейших игрока со своими интересами в крупной компании — это патовая ситуация. В результате они начали ругаться, спорить, ходить к различным начальникам и в России, и не в России, обращаться с исками в суд. И все это привело к затяжному и сложному конфликту внутри ТНК-ВР. Как можно из такого конфликта выйти? Продажей или уменьшением доли. Такой выход и был избран.
Приобретение же "Роснефтью" всего бизнеса ТНК-ВР или части бизнеса — на мой взгляд, это все-таки скорее исключение, чем правило. Я всегда внимательно отношусь к таким сделкам, поскольку не считаю правильным наращивать долю участия государства в компаниях, тем более в таких коммерчески успешных компаниях типа ТНК-ВР. Но не скрою и другого: если дошло до развода, то Российской Федерации отнюдь не безразлично, кто станет новым собственником компании. Не буду называть ни компании, которые могли бы претендовать на ТНК-ВР, ни государства, стоящие за ними, но, выбирая между российской государственной компанией и какими-то другими компаниями в отношении судьбы очень крупного объекта российского нефтяного бизнеса, я выбрал бы российскую госкомпанию.
— Это гипотетический выбор или были такие предложения?
— Нет, это не гипотетический выбор: если бы не получилось с "Роснефтью", то свято место пусто не бывает. Кто-нибудь появился бы. Сейчас приобретателем является "Роснефть", а так приобрел бы кто-то другой — или комфортный для нашей страны, или вызывающий вопросы. Здесь нечего стесняться, так себя ведет любое правительство.
При этом "Роснефть" — это тоже не константа. Сейчас это очень крупный, а будет крупнейший игрок на нефтяном рынке, но тем не менее это госкомпания, которая подлежит приватизации. С учетом того, что эта компания стала более дорогой, ее капитализация вырастет, вырастут и дивиденды, соответственно, доходы от приватизации "Роснефти" будут расти. В какой-то момент встанет вопрос и о том, что делать с контрольным пакетом. Это, конечно, отдельный выбор, но все, что до контрольного пакета, смело может продаваться с учетом рыночной конъюнктуры.
— Из ваших слов следует, что решение о снижении доли государства в "Роснефти" до уровня блокпакета или даже до нуля к 2018 году — это не окончательное решение и может быть пересмотрено?
— Окончательного решения нет. Здесь во главу угла должны быть поставлены практические параметры. Выгодно ли полностью выходить из компании? Что можно выручить от соответствующей продажи? Что означает "сохранение контроля"? Ведь контрольный пакет (применительно к нашему законодательству 50 плюс один голос) очень редко в мировой практике находится в одних руках. Для полного контроля при распыленном владении и при значимом free float достаточно иметь 20-25% акций "Роснефти".
"Мы хотим, чтобы бизнес, который вошел в "Ростехнологии", стал нормальным бизнесом, а не набором разрозненных предприятий"
— Будучи президентом, вы активно критиковали госкорпорации как идею. Каковы ваши взгляды на них из Белого дома — что с ними будут делать дальше, упразднять, реформировать, переводить в какой-то другой статус, оставлять как есть?
— Я не буду плакать при завершении работы государственных корпораций. Они лишь инструмент, юридическая оболочка, причем юридическая оболочка, которая в других странах не используется.
Судьба госкорпораций будет различна. Одна из них, "Роснано", уже по моему поручению превратилась в нормальное акционерное общество. Две другие корпорации — "Олимпстрой" и Фонд ЖКХ — должны, как мавр, сделать свое дело и уйти. С последней сложнее — у нее уж очень большая задача, много накопившихся проблем с коммуналкой, с ситуацией вокруг ветхого жилья и капремонтов, поэтому мы продлеваем срок ее деятельности. Но рано или поздно она свою деятельность закончит и будет ликвидирована.
Есть другие госкорпорации — как говорят юристы, корпорации sui generis, то есть особого рода. Это, например, "Росатом": она не является просто коммерческой структурой, ее деятельность направлена не только на развитие бизнеса или решение социальной задачи. Эта структура соединяет в себе и хозяйственные, и управленческие функции: там есть часть задач министерства, часть задач коммерческой компании. Такова специфика ядерной энергетики и ядерных технологий двойного назначения. Поэтому в качестве госкорпорации она сохранится очень надолго.
"Ростехнологии" — самая сложная госкорпорация, в которой больше всего имущества и больше всего людей. Здесь для меня больше всего вопросов, хотя я как раз, став президентом, и подписывал указ о ее создании. "Ростехнологии" должны продемонстрировать свои сильные стороны, и впоследствии решение об их судьбе должно быть принято отдельно.
— Сколько лет необходимо, чтобы, например, "Ростехнологии" доказали или не доказали свою эффективность?
— Пару лет назад мне казалось, что там совсем ничего не меняется. Но сейчас я уже так сказать не могу. "Ростехнологии" в целом набрали обороты и в целом ряде отраслей работают неплохо. Еще как минимум несколько лет должно быть отведено на то, чтобы упорядочить работу, после чего можно принимать решение о ее трансформации.
Как это будет сделано — это отдельный вопрос. Я просто выскажу свою точку зрения: в конечном счете такие структуры должны превращаться в обычные с правовой точки зрения коммерческие организации типа акционерных обществ.
— Госкорпорации защищены от ликвидации в ближайшие годы — а их руководители защищены от отставки?
— Ну нет, конечно. Руководители, у которых получается, пусть работают. Руководители, у которых не очень получается, должны это признать. Это касается любой госкомпании, любого министерства, любой госструктуры.
— В 2011 году существовала и другая идея вокруг госкорпораций — превращение их в постоянно действующие компании публичного права. Эта идея будет далее обсуждаться?
— Лицо публичного права — это специальные случаи, а мы как раз хотим, чтобы бизнес, который вошел в "Ростехнологии", стал нормальным бизнесом, а не набором плохо работающих предприятий, которые мы вынуждены тащить вместе для того, чтобы они не развалились и сохраняли рабочие места и производственные заделы.
Лицо публичного права — это скорее о судьбе еще одной госкорпорации, ВЭБа. ВЭБ — это особый кредитно-финансовый институт, он не является банком в узком смысле этого слова, но наделен целым рядом функций, похожих на задачи, которые выполняют банки. Если говорить о компании публичного права — наверное, это ближе всего к ВЭБу. Но это вообще отдельный вопрос, нужны нам такие публичные компании или нет. Ранее они не использовались в нашем правовом обиходе.
"Доктрина продвинутого американского суверенитета — это не очень хорошая доктрина"
— Говоря о "предгрозовой" ситуации, вы не могли не иметь в виду европейскую составляющую мирового финансового кризиса. Правительство России исходит из того, что ЕС этот кризис не сможет удержать в нынешних рамках?
— Я считаю, что они преодолеют этот кризис. Пусть не считают, что мы утираем слезы наших партнеров: экономика ЕС — одна из самых сильных экономик мира наряду с американской и китайской. Но есть и экономики стран БРИКС. Развивающиеся рынки, к числу которых относится и РФ, также, уверен, справятся. Вопрос в том, какой ценой? Мне бы не очень хотелось, чтобы в жертву трудностям в отдельных европейских экономиках был принесен евро. Не просто из симпатий к идее евро. Но потому, что кризис 2008 года мы получили в том числе из-за недостаточности количества резервных валют. Началось все с проблемы доллара, сейчас проблемы у евро, поэтому мы заинтересованы, чтобы мир держался на большем количестве резервных валют — включая в будущем и рубль, и юань, и другие валюты. Так можно лучше уравновешивать межстрановые риски и риски отдельных стран в общих валютных зонах. Мы заинтересованы в том, чтобы в ЕС все было нормально: у нас торговый оборот с ними $400 млрд, это половина внешнеторгового оборота России. И почти 42% валютных запасов России хранятся в евро. Но дело не только в этом, а еще и в том, что мультивалютная финансовая система лучше для обслуживания мировой экономики.
— Была произведена перезагрузка в российско-американских отношениях — насколько она получилась и что помешало? Как теперь будут строиться отношения с обновленной администрацией Барака Обамы?
— У меня никогда не было иллюзий, что мы с Обамой или кто-то еще способен за несколько лет все изменить. На мой взгляд, получилось многое. Подписали договор СНВ-3, договорились и по отдельным вопросам визового сотрудничества. Активизировали, хотя и недостаточно, экономические связи, проводили гармонизированные решения в период кризиса. Смогли договариваться по очень многим вопросам внешней политики. Получилось многое, но не все. Есть вопросы, по которым мы резко расходимся,— это ЕвроПРО, и кто бы ни стоял во главе России, позиция вряд ли изменится. Я надеюсь, что и в период нового срока своих полномочий, который заработал Барак Обама, Россия и США будут двигаться вперед и усилия, которые предпринимались до этого, не пойдут прахом. Мы к этому готовы. Но желательно, чтобы наши партнеры тоже понимали, что мы не можем безразлично относиться к тому, что происходит в мире, и к тем решениям, которые они принимают.
Мы приветствуем то, что американский Конгресс наконец освобождается от поправки Джексона—Вэника, этого реликта прошлого. Но то, что это увязано с другим законом, конечно, нам не нравится абсолютно. Вообще недопустимо, чтобы одна страна пыталась таким образом диктовать свою волю другой стране. В этом, на мой взгляд, большая ошибка и американских законодателей, и американского истеблишмента в целом. Доктрина продвинутого, если хотите, американского суверенитета — это недоброкачественная доктрина. Когда американские суды пытаются рассматривать споры, возникающие между иностранными лицами, когда американское правосудие пытается вершить свой приговор по всей территории планеты, когда американские спецслужбы хватают людей и отвозят на территорию США, чтобы потом судить их или чтобы держать без суда и следствия… Не хочу дальше рассуждать на эту тему. В любом случае, если говорить об этом законе, он явно вызовет и симметричную, и асимметричную реакцию со стороны нашей страны. Все это мы это уже проходили, это было часто в советские времена. Оно нам всем надо? Мне кажется, что нет. И они от этого ничего хорошего не получат.
— Распространение "акта Магнитского" в Европе, которое происходит в настоящее время — в Великобритании, в Германии, с вашей точки зрения также является чистой внешнеполитической борьбой?
— Есть евроатлантическая солидарность, если хотите. Я довольно давно занимаюсь практической политикой, я видел, как голосуются те или иные вопросы, я был на совете Россия—НАТО, я знаю, как идет подобная работа. Жесткая субординация и дисциплина, как в соцлагере. И этот законопроект как раз пример того, как идеологические решения, принятые в одном месте, потом тиражируются в других государствах. Это неумно и бессмысленно.
— Как вы считаете, возможно ли проведение модернизации в экономике РФ на фоне усложнения международных позиций России?
— Модернизацию невозможно проводить без сотрудничества. Это была бы чистой воды утопия. Что такое модернизация? Это создание более современной экономики, основанной на современных технологиях, на инновациях. Мы сможем это сами сделать, с опорой на собственные силы? Нет, не сможем, поскольку в противном случае наибольших успехов в деле модернизации добилась бы КНДР.
По целому ряду технологий мы очень отстали. В то же время у нас есть свои серьезные заделы, которые мы можем продавать на конкурентных началах. Это атомная энергетика, космос, некоторые темы, связанные с информационными технологиями, коммуникациями, биотехнологиями. Нам ни в коем случае нельзя "закрываться", поэтому за последние годы при моем активном участии было подписано много специальных соглашений и протоколов о совместных проектах в области модернизации с европейскими странами.
— Меняется в мире все, в том числе не только позиции, но и правительства. Так, новым премьером Грузии — а значит, вашим коллегой — стал Бидзина Иванишвили. Готовы ли вы встретиться с ним?
— Я как-то сказал, что я единственно с кем не готов сидеть за одним столом, это Михаил Саакашвили. Он начал войну, совершил преступление. Преступление прежде всего перед грузинским народом, перед другими народами, в смерти граждан которых он виноват. Нынешний премьер-министр — это уже другое поколение политиков, посмотрим на его реальные действия. Оттуда идут какие-то сигналы о том, что хорошо бы наладить контакты, пока не на дипломатическом уровне, хотя, напомню, дипломатические отношения разорвала Грузия, а не РФ. Мы будем внимательно относиться к этим сигналам. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы восстанавливать гуманитарное сотрудничество, у нас самолеты летают, контакты между людьми, слава богу, продолжаются, культурные связи сохранились, торгово-экономические отношения тоже могут восстановиться… Это не самая простая дорога, но Россия всегда говорила, что мы готовы к диалогу с новым руководством Грузии. Но конечно, с учетом существующих геополитических реалий и решений о признании Абхазии и Южной Осетии, которые приняла Россия.
"Все-таки мы все должны стать чуточку более цивилизованными"
— В 2009-2012 годах сменилось много глав регионов…
— Да, я весьма основательно приложил к этому руку. По сути, поменял половину губернаторского корпуса.
— Итогами удовлетворены?
— В целом да. Пришли новые, более современные люди. Не все удержались. У кого-то не получилось, кому-то пришлось уволиться или их попросили об этом. Это было нормально в прежней системе принятия решений о полномочиях губернаторов. Теперь у нас другая система, губернаторы избираются. Но если кто-то работает плохо, его и сейчас можно попросить уйти. Такие права есть у президента. Правительство также вправе проинформировать его о том, что недовольно работой того или иного губернатора. При принятии соответствующих решений сегодня нужно очень внимательно думать о том, кто придет на смену, потому что это уже полноценные выборы, реальное политическое соревнование. В этом смысле мне было, наверное, проще менять губернаторов по прежним правилам.
— Из тех, кого вы назначили, кто переизберется?
— Я сейчас не буду перечислять, чтобы никого не обидеть. Ну зачем? Это неправильно. У нас были выборы в пяти субъектах федерации. Несмотря на мелкие погрешности, больших претензий к этой кампании предъявить никто не смог. В большинстве регионов была нормальная политическая интрига. К удивлению многих везде победили руководители этих регионов, их поддерживала "Единая Россия". Мне приятно осознавать, что действующие губернаторы, даже те, в отношении деятельности которых у меня были сомнения, эту проверку выдержали. Смогли доказать людям, что они лучше, чем представители других партий.
— Как вы оцениваете нынешнее состояние "Единой России"?
— Когда я принимал решение о вступлении в партию и о том, чтобы связать свое политическое будущее с "Единой Россией", я думал о том, как это скажется как на самой партии, так и на отношении людей ко мне. И если бы я считал, что эта работа нанесет ущерб общей политической конструкции, я бы никогда за нее не взялся. Как мне представляется, все идет пока нормально. Не идеально, конечно, но нормально.
Сейчас "Единая Россия" в неплохом состоянии. Мы набрали определенный запас прочности, что, может быть, было для кого-то удивительно в ходе последних региональных выборов. Да, скептиков, наверное, меньше не стало, часть людей считают, что для них эта партия не годится, что они никогда ее поддерживать не будут, но в то же время значительная часть людей, большинство избирателей продемонстрировали, что они готовы поддерживать "Единую Россию".
Но главное — партия стала меняться. Как любая правящая партия, в какой-то момент "Единая Россия" начала бронзоветь, утратила гибкость. Казалось, что за счет административного ресурса, за счет традиционного, так называемого ядерного электората можно очень долго управлять страной. Проблемы были. Но теперь партия меняется, и самое главное, чтобы у самой партии, у ее руководящих структур (и высших и низовых) хватило куража. Я, когда приезжаю в регионы, стараюсь встретиться с партийным активом и как-то их простимулировать, если хотите, зажечь. Я продолжу этим заниматься. В этом есть смысл.
— С вашей точки зрения, решение по делу Болотной будет мягче, чем ожидается сейчас общественным мнением, или жестче? Чего ждать?
— Мне бы не хотелось вторгаться в компетенцию суда, и я не буду комментировать его будущее решение. Скажу лишь одно — все-таки мы все должны стать чуточку более цивилизованными. Я могу понять разочарование людей итогами выборов, потому что на них кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Очень неприятно, когда ты понимаешь, что в парламенте нет людей, которые тебе симпатичны, которые представляют спектр твоих политических взглядов. Я могу понять и выход людей на улицу с требованиями к власти, это нормально абсолютно. И для власти полезно, потому что в этом случае диалог становится более активным. Мне кажется, что и для нашей страны это было полезно. А пакет политических реформ, которые я заявил в декабре прошлого года и который парламент принял по моему предложению,— он сыграл свою роль в создании более современной политической конструкции в нашей стране.
Но все, в том числе и люди, которые придерживаются радикально-оппозиционных взглядов, должны соблюдать закон. Ведь любой человек, который выходит на улицу, собирается протестовать, должен понимать, что, даже если ему очень не нравится нынешняя политическая система и набор политических лидеров, нельзя бить полицейских, нельзя нарушать закон, нельзя уничтожать чужое имущество. За это придется ответить. Только если мы научимся ценить правопорядок, у нас будет современная политическая система. И этому, еще раз подчеркиваю, должны научиться все: и власти предержащие, и те, кто власти оппонирует. Тогда у нас будет гармоничное, современное общество и нормальная демократия.
— А как власти предержащие вы этому научите? Как будут учить тех, кто против, примерно понятно. Как научить тому же власть?
— Вы что думаете, власть не учится? Если бы власть не училась, так мы бы, наверное, сегодня и не разговаривали бы с вами. Власти важно быть понятой. Власти важно быть услышанной. Мы хотим, чтобы люди нас понимали.